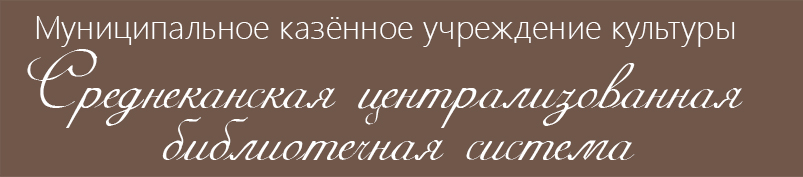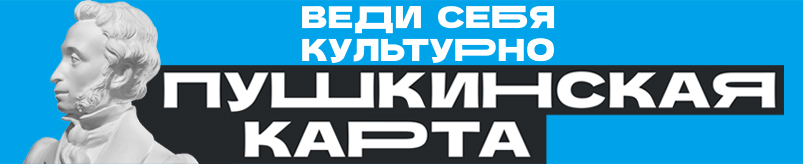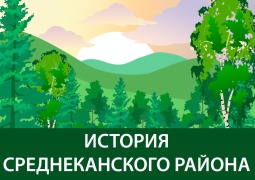Врача святое ремесло
«Я, бывший военный летчик Тюрин Петр Иванович, 28 февраля 1943 года выполнял задание правительства, при плохой погоде, из-за неисправности самолета потерпел аварию — врезался в гору. Скорость истребителя была 440 км час. Самолет взорвался. Не знаю каким чудом остался жив. У меня были переломаны ноги. Вывернуты ступни. Сильный удар в грудную клетку затруднял дыхание. Контузило в голову, пробило лоб выше правого глаза. После аварии надолго потерял память.
Первую помощь мне оказали в Уэлькале. Потом перевезли в Сеймчан. Лечили здесь меня Зверев и женщина— врач по имени Ревекка. В Сеймчане лежал месяца два. Благодаря местным врачам, их умелой помощи в самый трудный период моего ранения я выжил и стал летать.
Помогите найти этих врачей.
Прочитав письмо бывшего летчика, я был потрясен его мужеством, волей, тягой к жизни, стремлением не расстаться с небом.
Но как ему помочь? С чего начать? Ведь он не называет имени Зверева и фамилии Ревекки.
Я решил опросить старожилов. Обратился к одному, другому. Никто не знает ни Зверева, ни Ревекку, ни других врачей сеймчанской больницы тех лет. В. Н. Назарова направила меня к А. И. Кирчаевой. Александра Ивановна сказала, что она слышала о Звереве и Ревекке, но фамилии последней не помнит. Но зато она дала адрес С. И. Авилова, живущего в Москве, который, по ее мнению, может знать кого-то из врачей тех лет.
Пока шла переписка, я решил познакомиться с подшивками местных газет военного времени. И вот, листая пожелтевшие листы «Металл—Родине», в одном из номеров обратил внимание на репортаж «Врач Рубина». Прочитав его, узнал, что Рубина и есть та самая Ревекка Григорьевна, хирург Сеймчанской больницы 1942 —1945гг. Да, это была та, которую я искал. Но где она сейчас? Жива ли?
В репортаже говорилось, что Ревекка Григорьевна окончила Днепропетровский медицинский институт, и по направлению поехала на Север.
Пишу в Днепропетровск, в медицинский институт, прошу помочь отыскать следы его выпускницы 1938— 1939 гг.Но ответ, присланный 4 ноября1981 года, огорчил:
— На ваше письмо сообщаем, что Днепропетровский медицинский институт не может помочь в розыске Рубиной Р. Г., в связи с тем, что довоенный архив не сохранился».
Почти одновременно приходит письмо от Авилова с адресом одного из работников Сеймчанской больницы. Это Гейер Андрей Михайлович, живет в Алма-Ате. Пишу ему. И вот 6 января1982 года получаю ответ:
«Зверев Василий Михайлович умер в 1952 году, а врач Ревекка Григорьевна Рубина живет здесь, в Алма-Ате».
Это была большая удача, ведь с начала поиска прошло всего шесть месяцев.
Между нами завязалась переписка. Письмо, второе, третье...
«На Колыму я приехала в мае 1939 года, — сообщает Р. Г. Рубина, — после окончания мединститута. Получив назначение в Дальстрой, прибыла в Магадан. Здесь дали направление в Юго-Западное горнопромышленное управление, на прииск 3-ей пятилетки, заведующей врачебным участком.
В начале 1941 года меня переводят главным врачом в поселок Сеймчан, в 1943-ем дополнительно назначают начальником санчасти ЮЗГПУ. Работы прибавилось.
В конце 1942 начала действовать воздушная трасса. В Сеймчане разместился 3-й авиаполк. Нам вменили в обязанность лечить его личный состав.
Когда началась война, написала рапорт — на фронт. Но получила ответ. Вы, лейтенант, и здесь на фронте. Лечите военных, а надо будет на передовую — вызовем».
Условия для работы тогда были тяжелые. Больница располагалась в небольшом домике. Ревекке Григорьевне пришлось заниматься строительством новых помещений, так как старые не отвечали никаким требованиям. Операционная была самая примитивная. Чтоб как-то утеплить и поддерживать чистоту, пришлось обтянуть стены пленкой. Пол и потолок законопатить и выкрасить в несколько слоев масляной краской. Когда внезапно отключалось электричество, для освещения операционной использовали автомобильные фары. Остро ощущался недостаток медикаментов, белья, предметов ухода, стерильных материалов. Это были трудности военного времени, и медперсонал делал все возможное и невозможное, чтобы облегчить страдания больных.
«Хотя и прошло более 40 лет, — пишет Ревекка Григорьевна, — хорошо помню некоторых больных и раненых летчиков, которых мне и Василию Михайловичу пришлось оперировать и буквально возвращать с того света: капитан Александр Мокин, капитан Анохин, Батищев, Чулахов... После катастрофы лечили майора Ершова, он лежал с переломом позвоночника и ноги. Мы вернули его в строй, и он стал летать.
С 1 февраля по 10 октября 1943 года у меня лечился тяжелобольной капитан Л. И. Косогоров. Леонид Иванович потом нам рассказывал, что самолетом, в котором он был штурманом, управлял подполковник Вязников. На взлете и на небольшой высоте машина потеряла скорость, упала на нос. Командир остался цел, а Косогоров в своей «моссельпроме», так он называл кабину штурмана, ударился...
Перед тем как попасть к нам, Леонид Иванович два месяца лежал в санчасти в Анадыре. Туда за ним вылетали хирург В. М. Зверев и медбрат Гвинжелия, которые доставили Косогорова в Сеймчан в тяжелом состоянии. У него был множественный перелом костей таза, осложненный остеомиелитом, сепсис [заражение крови], перелом костей голени».
Пять месяцев шла борьба за жизнь Леонида Ивановича, борьба с остеомиелитом, с заражением крови, с переломами костей. Весь забинтованный, в лубках, в пролежнях. Во многих местах открылись свищи. Какое же большое количество операций пришлось ему перенести. Его тело стало повышено реагировать на любую боль, даже совершенно незначительную.
Мы старались сделать каждую перевязку как можно безболезненней. Вводили наркотики, но он все равно сильно кричал. Часто просил пристрелить его. Эти крики и вспоминает летчик Тюрин.
Потом, когда ему стало лучше, я сопровождала Леонида Ивановича в Красноярск. Он уже мог понемногу опираться на костыли.
Однажды, уже после победы над Японией, я шла по улице Сеймчана. Навстречу мне легкой походкой двигался высокий, стройный, красивый и молодой военный в авиационной форме. Проходя мимо, он поздоровался. Я машинально ему ответила и пошла дальше.
— Простите, Ревекка Григорьевна, вы не узнаете меня! — обратился офицер.
Я остановилась. Пристально вглядываюсь в худощавое молодое лицо. Что-то знакомое было в нем. Задумалась. Определенно где-то его видела. И голос знакомый...
— Я Косогоров. Помните! Василий Михайлович часто мне говорил, что я буду ходить, летать и даже танцевать! Вот и приглашаю Вас на первое танго в нашем клубе.
Вечером, как обычно, в клубе играла музыка. Было многолюдно. Пары кружились в волнах «Голубого Дуная». Я осмотрелось. Ко мне подошли врачи, среди которых был и Зверев. Зазвучало «Аргентинское танго». И тут я увидела офицера-летчика. На его груди сверкали ордена. Он направился ко мне.
Легко и плавно, словно у него никогда не было таких тяжелых травм, Леонид Иванович танцевал танго. По залу пронесся легкий ветерок шепота, мы остались одни... Это танго мне показалось сном: так легко и непринужденно летчик выводил па.
Когда музыка смолкла, раздались бурные аплодисменты. Хлопали долго, азартно, радостно. У меня текли слезы, а в углу на стуле плакал Василий Михайлович. Плечи его тряслись, но он не стеснялся своих слез. Возможно, в душе он не верил, что Косогоров будет ходить. Но его руки, руки хирурга, знания, любовь к людям сделали невозможное. Они просто вырвали человека из лап смерти».
Мне удалось найти приказ начальника Сеймчанского авиагородка полковника Скоробогатова.
ПРИКАЗ № 177
27.10.45 ППС 78727-В
В течение всего времени пребывания вверенной мне части в Сеймчане, т. е. с 1942 года по настоящее время, медицинские работники поселка Н. Сеймчан оказывали всемерную помощь всему личному составу авиагарнизона, членам их семей, а также прибывшим военнослужащим из других частей специально для лечения.
Наши больные всегда получали внимательное и чуткое отношение и высокоэффективное лечгние. В результате медицинские работники Н. сеймчанского медучастка и больницы сохранили многим из личного состава здоровье и намного сократили число потерь трудодней, что способствовало выполнению боевого задания вверенной мне авиачасти в тяжелые годы Великой Отечественной войны.
Учитывая вышеуказанное, ПРИКАЗЫВАЮ:
за высококвалифицированную медицинскую помощь в течение, трех лет, оказываемую личному составу вверенной мне авиачасти, объявить благодарность:
1. Заведующей больницей — Рубиной Ревекке Григорьевне.
2. Хирургу — Звереву Василию Михайловичу.
3. Терапевту — Соломинскому Борису Лазаревичу.
4. Заведующей аптекой — Коренковой Полине Васильевне.
5. Заведующему зубопротезным кабинетом — Поляк Марку Яковлевичу.
6. Заведующей больницей ЮГЛАГ—Мансуровой Тамаре Владимировне.
Кроме того, в отношении врача Рубиной Р. Г. и врача Зверева В. М. возбуждаю ходатайство перед командованием о награждении».
И вскоре капитану медицинской службы Р. Г. Рубимой и В. М. Звереву были вручены медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг». Удостоверения подписал генерал-лейтенант авиации начальник авиатрассы Красноярск — Уэлькаль Марк Иванович Шевелев.
...Годы идут своим чередом. Сменились врачи в Сеймчанской больнице. Умер хирург В. М. Зверев, на пенсии врач Р. Г. Рубина. Но помнят их те, кому они спасли жизнь. Вот предо мной письмо из Ростова-на-Дону от бывшего военного летчика 3-го ПАП Федора Васильевича Тимшина. Он прислал фотографии, на которых запечатлены летчики и врачи. В письме есть такие слова: «Высылаю вам фото хирурга Зверева. Он мне вырезал аппендицит. Это был гений в хирургии, многих безнадежно больных поставил на ноги. Помню штурмана капитана Косогорова и летчика Петю Тюрина. Их врачи собрали по кусочкам.
Когда в поселке разразилась цинга, сказывалась нехватка продуктов и витаминов, Зверев предложил радикальное средство против нее, ранее неприменяемое. Это был отвар стланика. Каждый должен был утром выпивать кружку этого неприятного напитка. Этот метод позволил быстро поднять больных, а для здоровых являлся профилактической мерой. С тех пор в Сеймчане никто цингой не болел».
Слова Федора Васильевича Тимшина перекликаются с воспоминаниями Р. Г. Рубиной:
«Василий Михайлович был замечательный человек, для меня отцом и учителем. Работал он в Ленинграде, в клинике профессора Гирчалова. Василий Михайлович готовил докторскую диссертацию. Семья у него была небольшая: жена и сын жены.
Я, как губка, впитывала его школу, клиническое мышление, все азы, которые были нужны мне, молодому хирургу. Каждую проведенную операцию он тщательно описывал в особом журнале».
И нынешнее поколение сеймчанских врачей, по первому сигналу, днем и ночью, как в военные годы, готовы прийти на помощь человеку, попавшему в беду. Валентина Николаевна Назарова, Валентина Михайловна Егорова, Нина Ивановна Голубчик, Раиса Прокопьевна Запорожец, Ахмет Хасанович Сахибгоряев и многие другие врачи, медсестры, санитары продолжают традиции тех, кто стоял у истоков народного здравоохранения на Колыме.
В 1983 году из тайги в Сеймчан был перенесен прах погибших летчиков из экипажа, которым командовал капитан А. Ф. Охапкин. Об этом писала «Новая Колыма». Но мало кто знает, что непосредственное участие в этой, операции принимала Валентина Николаевна Назарова.
Она сама проделала большую работу. Преодолевала болото нагаинской тайги, валуны, завалы, укусы комаров и оводов. Руками снимала дерн и ножом вскрывала мерзлый грунт, извлекая из Iземли останки погибших. Установила их возраст, пол. Ее данные были подтверждены документами, присланными из архива и полученными от родственников.
Валентина Николаевна помогала мне в поиске документов летчика Тюрина, в розыске штурмана Б. 3. Сопруненко, который родился в том же городе, где она жила — Коммунарске. Я обращался к ней в любое время и всегда находил поддержку. А поиск был трудный — по Тюрину длился два года, по Сопруненко продолжается по сей день.
И сейчас, в год 40-летия Победы над ненавистным врагом человечества, хочется от всей души поблагодарить всех работников Сеймчанской больницы, и ветеранов, и молодых, которые зорко стоят на страже самого бесценного нашего достояния — здоровья людей.
В. МАТВЕЕВ, работник авиапредприятия.
Новая Колыма от 8 марта 1985 года