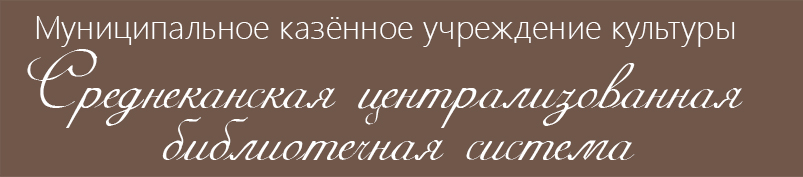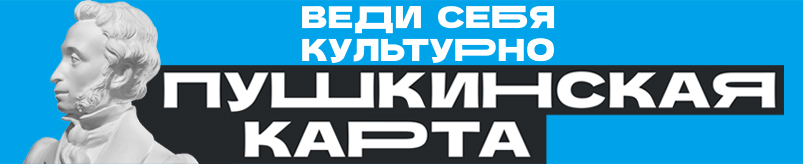СЕЙМЧАНСКИЕ ВСТРЕЧИ
Представители эвенского населения не составляют большинства в Среднеканском районе. Территория, некогда занятая юкагирами, эвенами и якутами, с начала 30-х годов активно заселялась русскоязычным населением, которое в течение последующих десятилетий значительно превысило по численности коренное население.
Начало 30-х годов 20 века – период активной советизации и коллективизации центральной Колымы. Как жили эвены в этот непростой период? Какими были их хозяйство и культура до середины прошлого века? Как живут они сейчас?
 Ответы на эти и другие вопросы мне помогли найти старейшие представители эвенского населения Василий Николаевич и Татьяна Афанасьевна Хабаровские Василий Николаевич и Татьяна Афанасьевна Хабаровские, Мария Михайловна Болдухина.
Ответы на эти и другие вопросы мне помогли найти старейшие представители эвенского населения Василий Николаевич и Татьяна Афанасьевна Хабаровские Василий Николаевич и Татьяна Афанасьевна Хабаровские, Мария Михайловна Болдухина.
 Их рассказ дополнили Мария Васильевна и Иван Сергеевич Хабаровские, Наталья Федоровна Калашникова. Все они, как и большинство представителей этой национальности в Среднеканском районе, относятся к наиболее интересной рассохинской группе эвенов. Название дано этой группе по месту их прежних кочевий в районе Рассохи, рек Визуальная, Левая и Правая Айнене, Немындыкан, Монакова и Омолон.
Их рассказ дополнили Мария Васильевна и Иван Сергеевич Хабаровские, Наталья Федоровна Калашникова. Все они, как и большинство представителей этой национальности в Среднеканском районе, относятся к наиболее интересной рассохинской группе эвенов. Название дано этой группе по месту их прежних кочевий в районе Рассохи, рек Визуальная, Левая и Правая Айнене, Немындыкан, Монакова и Омолон.
 Василий Николаевич, Татьяна Афанасьевна и Мария Михайловна не знают русского языка, и общаться нам пришлось через переводчиков – их детей и родственников.
Василий Николаевич, Татьяна Афанасьевна и Мария Михайловна не знают русского языка, и общаться нам пришлось через переводчиков – их детей и родственников.
Сколько лет моим старшим собеседникам, они затрудняются ответить. По паспорту Василий Николаевич 1918 года рождения, а Татьяна Афанасьевна – 1921. Но даты эти весьма приблизительны, они восстановлены по памяти уже в конце 50-х годов – начале 60-х. По словам их дочери Марии Васильевны, сама она родилась «во время большой воды». Год рождения (1958) тоже определён приблизительно. Воспитатели начальной школы-интерната на Рассохе, куда собирали эвенских детей, исходя из внешних данных своих подопечных, сами наугад определяли их возраст, который впоследствии был отражен в паспортных данных.
Отец Василия Николаевича, Николай Павлович Хабаровский, - шаман, широко известный в конце 19 – начале 20 века на Охотском побережье и среди своих одноплеменников. Он имел большую семью, в которой было четверо сыновей и две дочери. Все его дети, в свою очередь, обзавелись многодетными семьями.
Сам Василий Николаевич как потомственный знатный оленевод всю жизнь провёл в тайге; он ветеран труда и награждён многими медалями за добросовестный труд. Ещё он хранитель традиций своего народа; замечательный сказитель, единственный в своём роде, исполняющий народные песни на старинном эвенском языке.
Хабаровские – представители экзогамного рода дойда. В давние времена этот род пришёл с Алдана, но ещё раньше на колымских землях обосновался род уегынкын, представители которого носят фамилию Болдухины.
Мария Михайловна Болдухина - мать-героиня, родившая и воспитавшая 11 детей. Приезжая в Сеймчан погостить у своей дочери, тоскует по тайге и оленям. На мой вопрос, не трудно ли ей в таёжных условиях, она ответила: «Мне хорошо там, а здесь тяжело на сердце».
Представители того и другого рода к настоящему времени состоят в близком родстве.
Материал, предлагаемый читателю, сложился из бесед с этими людьми, дополнен материалами из историко-этнографических исследований Ульяны Григорьевны Поповой и более поздних исследований эвенской культуры.
БЕЛЫЕ ОЛЕНИ РАССОХИ
Как часто рождается хэвкисык - белый олененок? Когда оленьи стада были огромными и достигали нескольких тысяч, белых оленят появлялось до пяти за один отел. «Это олень, которого я видел во сне», - говорил старый шаман, разглядывая новорожденного. Такие олени считались посланниками небес и были священными для оленеводов-кочевников. Их не забивали для еды, не использовали в качестве ездовых и вьючных. Они считались охранителями рода, и беды стороной обходили стойбище, где они бродили возле яранг.
Память – священный белый олень – не спеша ведет нас за собой по перевалам времени и эпох. Мы то уходим в прошлое, петляя в веках, то возвращаемся в день нынешний.
По одному из предположений, сделанных учеными, таежное оленеводство зародилось в начале нашей эры в Саяно-Алтайской области и оттуда постепенно, шаг за шагом распространилось по всей Сибири, дошло до Севера Дальнего Востока и бассейна реки Колымы, где в 14-15 веках, осваивая новые пастбища, появились первые тунгусские племена – предки современных эвенов. Из века в век, совершая ежегодно тысячекилометровые кочевки из таежной глуши к побережью, они жили рядом со своими оленями, совершенствуя их породу. Эта своеобразная порода отличалась от тундровых оленей более крупными размерами и нежным жирным мясом.
Олень давал эвенской семье все необходимое для жизни: пищу, шкуры для одежды и обуви, для покрышек на ярангу, для постели; сухожилия для ниток, кости и рога для изготовления различных необходимых в хозяйстве предметов. Он был транспортом в любое время года. Он был всем, и поэтому с оленеводством были связаны многие традиции и обычаи, древние верования. Вся жизнь эвенов – кочевников была связана с оленями и подчинена соответствующему хозяйственному циклу.
 Разбивая год на шесть времен, эвены делали из деревянной дощечки календарь, где горизонтальными линиями обозначали месяцы, а глухими отверстиями на линиях – дни. Птичкой могли обозначаться значимые семейные события и христианские праздники. Переставляя короткий прутик из отверстия в отверстие, вели учет дням. Такие календари, очень удобные в кочевых таёжных условиях, более прочные и надежные, чем бумага, по информации Василия Николаевича Хабаровского имели место весь период оленеводства.
Разбивая год на шесть времен, эвены делали из деревянной дощечки календарь, где горизонтальными линиями обозначали месяцы, а глухими отверстиями на линиях – дни. Птичкой могли обозначаться значимые семейные события и христианские праздники. Переставляя короткий прутик из отверстия в отверстие, вели учет дням. Такие календари, очень удобные в кочевых таёжных условиях, более прочные и надежные, чем бумага, по информации Василия Николаевича Хабаровского имели место весь период оленеводства.
Вот уже пришли первые заморозки. Днем еще приветливо и ласково греет солнце, напоминая об уходящем лете, а по утрам сырые туманы угрюмо клубятся в распадках, над потайными руслами таежных рек и ручьев. Как живые, они сползают по склонам сопок и, развеянные солнечными лучами, бесследно исчезают в нарождающейся синеве неба. Изредка травы уже серебрятся легким инеем, а в густой зелени тайги первым вестником наступающих холодов сверкает желтизна.
По эвенскому календарю это начало года, ранняя осень. Пора эта начинается с последней декады августа и длится до конца сентября. Гнус, в летние дни нестерпимо досаждающий людям и животным, постепенно пропадает, и оленей, которых манит обилие грибов, отпускают на свободный выпас, но надзор за ними не прекращают.
Это время оленьей любви, время гона, когда сквозь торжественную таёжную тишь далеко слышны тревожные крики улетающих птиц и под шорох умирающих листьев зарождается новая жизнь. Сколько их будет, белых оленят?
Для людей это время охоты на дикого оленя, переход на осенние пастбища. Эвенские женщины в период ранней осени занимались обработкой шкур – самой трудоёмкой работой. В соответствии с представлениями эвенов для такой работы в годовом хозяйственном цикле предусматривалось два периода: ранняя осень и весна. В другое время (летом) обработка шкур запрещалась, чтобы, согласно древним представлениям, не вызвать болезни в оленьем стаде. Зимой выделкой шкур также не занимались из-за короткого светового дня.
Жизнь женщины-кочевницы никогда не была легкой. Весь быт семьи, жилище, воспитание детей, приготовление пищи, выделка шкур, раскрой, шитьё и украшение одежды, собирательство составляли её повседневные заботы соответственно временам года.
 Одежда, сшитая эвенской женщиной, отличалась изысканностью украшений. Образцы одежды рассохинских эвенов, хранящиеся в Сеймчанском краеведческом музее, декорированы красной тканью, бахромой из ровдуги (оленьей шкуры, выделанной до состояния замши), полосками контрастного по цвету меха, металлическими круглыми подвесками по талии (они выполняли роль оберегов), искусной вышивкой бисером и вышивкой подшейным волосом оленя.
Одежда, сшитая эвенской женщиной, отличалась изысканностью украшений. Образцы одежды рассохинских эвенов, хранящиеся в Сеймчанском краеведческом музее, декорированы красной тканью, бахромой из ровдуги (оленьей шкуры, выделанной до состояния замши), полосками контрастного по цвету меха, металлическими круглыми подвесками по талии (они выполняли роль оберегов), искусной вышивкой бисером и вышивкой подшейным волосом оленя.
 Бисер был дорог и очень ценился эвенскими мастерицами. Его никогда не выбрасывали. Одежду изнашивали до дыр, а бисер бережно переносили на другую. Бисером украшали обувь из оленьего камуса, мужские перчатки, кисеты для табака, авсы – женские сумочки для рукоделия, покрышки на ездовые сёдла, детские люльки – бэбэ.
Бисер был дорог и очень ценился эвенскими мастерицами. Его никогда не выбрасывали. Одежду изнашивали до дыр, а бисер бережно переносили на другую. Бисером украшали обувь из оленьего камуса, мужские перчатки, кисеты для табака, авсы – женские сумочки для рукоделия, покрышки на ездовые сёдла, детские люльки – бэбэ.
 Откуда пришел в таёжную глушь бисер – типично восточное украшение? Его родиной считается Древний Египет. Такие далекие по времени и месту цветные бусины из зеленого и голубого стекла, металла и фарфора лишь в 17 веке стали называться бисером, что в переводе с арабского обозначает «фальшивый жемчуг». В 10-14 веках он стал попадать в русские земли из Византии, позже – из Германии и Венеции.
Откуда пришел в таёжную глушь бисер – типично восточное украшение? Его родиной считается Древний Египет. Такие далекие по времени и месту цветные бусины из зеленого и голубого стекла, металла и фарфора лишь в 17 веке стали называться бисером, что в переводе с арабского обозначает «фальшивый жемчуг». В 10-14 веках он стал попадать в русские земли из Византии, позже – из Германии и Венеции.
 Согласно мнению исследователей, фарфоровый бисер, которым украшена одежда рассохинских эвенов, через русских купцов и промышленных людей в результате многочисленных обменов в начале 19 века пришел из Китая. Он так прочно завоевал сердца смуглых северянок, что вышивка бисером стала частью эвенской материальной культуры. Черный, как влажная весенняя земля, белый, как девственные снега сопок, голубой, как небо и река, иногда желтый, как осенняя хвоя лиственниц и зеленый, как молодая трава, он в умелых руках эвенской женщины укладывается в полоски, кружки и зигзаги, создавая причудливый самобытный узор, повторяющий окружающую жизнь.
Согласно мнению исследователей, фарфоровый бисер, которым украшена одежда рассохинских эвенов, через русских купцов и промышленных людей в результате многочисленных обменов в начале 19 века пришел из Китая. Он так прочно завоевал сердца смуглых северянок, что вышивка бисером стала частью эвенской материальной культуры. Черный, как влажная весенняя земля, белый, как девственные снега сопок, голубой, как небо и река, иногда желтый, как осенняя хвоя лиственниц и зеленый, как молодая трава, он в умелых руках эвенской женщины укладывается в полоски, кружки и зигзаги, создавая причудливый самобытный узор, повторяющий окружающую жизнь.
 Национальная распашная одежда, украшенная вышивкой из бисера, и ее непременная часть – нэл (меховой фартук- нагрудник, защищающий бёдра и грудь от холода) в сочетании с современной одеждой и обувью до последнего времени были популярны среди рассохинских эвенов, живущих в тайге и занимающихся оленеводством.
Национальная распашная одежда, украшенная вышивкой из бисера, и ее непременная часть – нэл (меховой фартук- нагрудник, защищающий бёдра и грудь от холода) в сочетании с современной одеждой и обувью до последнего времени были популярны среди рассохинских эвенов, живущих в тайге и занимающихся оленеводством.
 Несомненно, эвенские женщины в яркой национальной одежде выглядели очень колоритно и привлекательно. Но не только внешний вид, в том числе рассказывающий о мастерстве владелицы одежды, имел значение. На мой вопрос Василию Николаевичу Хабаровскому, какая женщина считалась красивой, он мне ответил, что не красота была определяющей в избраннице. Привлекательность женщины складывалась и из многих других качеств. Его жена Татьяна Афанасьевна покорила его тем, что в молодости умела прекрасно охотиться, пасла оленей наравне с другими пастухами, находила и приводила отколовшуюся часть стада; ей одной можно было доверить стадо, с которым она уходила на дальние территории
Несомненно, эвенские женщины в яркой национальной одежде выглядели очень колоритно и привлекательно. Но не только внешний вид, в том числе рассказывающий о мастерстве владелицы одежды, имел значение. На мой вопрос Василию Николаевичу Хабаровскому, какая женщина считалась красивой, он мне ответил, что не красота была определяющей в избраннице. Привлекательность женщины складывалась и из многих других качеств. Его жена Татьяна Афанасьевна покорила его тем, что в молодости умела прекрасно охотиться, пасла оленей наравне с другими пастухами, находила и приводила отколовшуюся часть стада; ей одной можно было доверить стадо, с которым она уходила на дальние территории
Эвенский мужчина тоже должен был обладать определёнными качествами. Кроме основного – быть умелым оленеводом, ценились быстрота, выносливость, умение хорошо ездить на оленях, метко стрелять, удачно охотиться, хорошо ориентироваться на местности. Все эти качества были жизненно необходимы для выживания и воспитывались с раннего детства, едва только ребенок начинал ходить. Общим ценным качеством было трудолюбие.
 Эвенские мужчины были прекрасными кузнецами и мастерами художественной обработки серебра и железа. Из бронзы и серебра, любимого металла эвенов, методом литья изготовлялись мелкие украшения: кольца и серьги, подвески на одежду.
Эвенские мужчины были прекрасными кузнецами и мастерами художественной обработки серебра и железа. Из бронзы и серебра, любимого металла эвенов, методом литья изготовлялись мелкие украшения: кольца и серьги, подвески на одежду.
Время предзимья, или поздней осени, приходится на октябрь-ноябрь, когда легкие заморозки крепчают и уверенно переходят в морозы, а белый олень едва различим на стынущем снегу.
Начало этой поры – время отдыха для оленей, которым надо окрепнуть перед длительным переходом на зимние пастбища. Это время, когда в кочевой быт эвенов уверенно входила палатка, сменяющая ярангу.
Яранга – незаменимое жилище летом. На ее верхние и нижние покрышки уходит до двадцати шкур. Как правило, в ней устраивается два входа (основной – на южную сторону), и четыре полога. Костер, разведенный в центре этого жилища, дает достаточно дыма, чтобы можно было коптить камуса и дымить шкуры, не создавая при этом неудобства для людей. Яранга хорошо проветривается, в ней не душно и меньше комаров. На установку яранги (этим занимались женщины) требуется около одного часа.
Палатка пришла в быт рассохинских эвенов в конце 50-х годов, когда для них была организована первая фактория. Таёжные кочевники по достоинству оценили преимущества нового жилища, и оно прочно вошло в их жизнь. Палатку утепляли брезентом, изнутри – двухслойной байкой. Её легче и быстрее ставить, в ней теплее, чем в яранге.
И палатку, и ярангу устанавливали в такой местности, где есть хороший обзор для контроля оленьего стада. Река должна быть не рядом, но невдалеке. Здесь же должно быть и наличие сухостоя.
Забота о жилище испокон века была обязанностью эвенской женщины. Стараясь содержать ярангу в чистоте, раз в неделю заменяли ветки, устилающие пол яранги; следили за тем, чтобы не дуло и не возникали сквозняки, чтобы вовремя проветривались и выбивались шкуры, меховая одежда и спальные мешки, чтобы в ведрах всегда была вода.
Ведра, которыми длительное время пользовались рассохинские эвены, были медными. По рассказам членов семьи В. Н. Хабаровского, такие ведра были получены в незапамятные времена в результате обмена во время ярмарки на побережье в районе Гижиги и Гарманды, куда до установления советской власти рассохинцы кочевали на лето со своими оленьими стадами. В то время путем обмена было приобретено и долго служило своим хозяевам множество предметов быта американского производства. Для обмена использовали шкурки белок. По информации В. Н. Хабаровского, его отец привозил на ярмарку в том числе до двухсот белок, что позволяло ему кроме необходимых предметов быта приобретать взамен чай, муку, патроны в расчёте на год. Живых оленей не продавали и не обменивали; в случае необходимости предпочитали выменивать в якутских приколымских селениях убойное мясо на необходимые товары: табак, порох, дробь, муку и чай. С той же целью туда привозили или передавали шкуры, пыжики и камус.
Огонь очага был главной святыней в эвенской семье. Его не полагалось заливать водой, ему приносили жертвы: кормили кусочками мяса и сала, поливали вокруг кровью убитого оленя, обмазывали оленьей кровью очажные стойки. Огонь не терпел лжи, жестокости, мстил за зло. Огонь всегда был рядом, и эвенская женщина, выполняя свои повседневные обязанности и хлопоча возле него, чутко прислушивалась к его бормотанию. Спокойное ровное горение говорило о благополучии, искры, треск и шипение настораживали и предупреждали о грядущих недобрых событиях, нежеланных гостях.
Очищающую силу огня использовали шаманы, нагревая возле его пламени свой бубен. Возле огня происходило камлание, после которого шаман прыгал через огонь, очищаясь после общения с духами.
 Шаманизм среди рассохинских эвенов имел место ещё длительное время после установления советской власти на территории Колымы. По воспоминаниям Марии Михайловны Болдухиной, её лечил шаман, когда она в возрасте 15-17 лет тяжело заболела. Шамана звали Семён Владимирович. Марии Михайловне из шаманской одежды запомнился ровдужный кафтан, расшитая бисером шапка с бахромой и рожками из металла, пояс с бахромой и антропоморфными удлиненными фигурками, выполненными из ровдуги, с бусинами и бисером. В процессе камлания шаман изобразил себя летящим на орле и комментировал все свои действия: «Я лечу на орле и вижу всё вокруг и сажусь резко…» После камлания больного по просьбе шамана помещали непосредственно у огня, где была приготовлена на деревянном блюде мелко нарезанная еда. Для кормления использовали острую палочку, сделанную из ветки багульника. Если больной был очень слаб, шаман сам кормил его, предлагая на выбор разную еду, наблюдая при этом, примет ли больной ту или иную пищу (бульон, сырую печень, сухое или варёное мясо). Для закрепления лечения шаман велел делать амулеты и объяснял, как они должны выглядеть. Как правило, это были антропоморфные фигурки или круглые медальоны из ровдуги с вышитым в центре крестиком. Амулеты делали сами больные или кто-нибудь из родственников, но не сам шаман. Каждый амулет прикреплялся к шнуру из ровдуги; носили амулеты на одежде, под одеждой на теле или на шее как нательный крест. Амулеты считались щитом от злых духов и их невидимого оружия - копья. Антропоморфные фигурки амулетов олицетворяли добрых духов, помогающих человеку. Если болезнь держалась крепко и не отступала, шаман повторял весь обряд лечения. После обряда шаману обязательно давали подарок. Это могли быть торбаса, шкуры животных.
Шаманизм среди рассохинских эвенов имел место ещё длительное время после установления советской власти на территории Колымы. По воспоминаниям Марии Михайловны Болдухиной, её лечил шаман, когда она в возрасте 15-17 лет тяжело заболела. Шамана звали Семён Владимирович. Марии Михайловне из шаманской одежды запомнился ровдужный кафтан, расшитая бисером шапка с бахромой и рожками из металла, пояс с бахромой и антропоморфными удлиненными фигурками, выполненными из ровдуги, с бусинами и бисером. В процессе камлания шаман изобразил себя летящим на орле и комментировал все свои действия: «Я лечу на орле и вижу всё вокруг и сажусь резко…» После камлания больного по просьбе шамана помещали непосредственно у огня, где была приготовлена на деревянном блюде мелко нарезанная еда. Для кормления использовали острую палочку, сделанную из ветки багульника. Если больной был очень слаб, шаман сам кормил его, предлагая на выбор разную еду, наблюдая при этом, примет ли больной ту или иную пищу (бульон, сырую печень, сухое или варёное мясо). Для закрепления лечения шаман велел делать амулеты и объяснял, как они должны выглядеть. Как правило, это были антропоморфные фигурки или круглые медальоны из ровдуги с вышитым в центре крестиком. Амулеты делали сами больные или кто-нибудь из родственников, но не сам шаман. Каждый амулет прикреплялся к шнуру из ровдуги; носили амулеты на одежде, под одеждой на теле или на шее как нательный крест. Амулеты считались щитом от злых духов и их невидимого оружия - копья. Антропоморфные фигурки амулетов олицетворяли добрых духов, помогающих человеку. Если болезнь держалась крепко и не отступала, шаман повторял весь обряд лечения. После обряда шаману обязательно давали подарок. Это могли быть торбаса, шкуры животных.
Рассохинские эвены относились и относятся с большим почтением ко всему, что связано с шаманскими действиями и шаманами. Они верят в то, что шаман видит весь земной путь человека и может ему помочь.
В процессе общения Марией Михайловной Болдухиной была рассказана легенда, родившаяся в начале прошлого века. Согласно ей, на побережье моря (вероятно, возле Гижиги, Гарманды) была церковь, активно посещаемая эвенами во время их пребывания в той местности. С приходом советской власти церковь сожгли, и репрессии обрушились не только на христианских священников, но и на шаманов. У них были отняты все их шаманские атрибуты и шаманская ритуальная одежда, и при скоплении народа всё это было предано огню. Не замеченные представителями власти две шаманки (шаманизм был, в основном, привилегией мужчин, но женщины тоже шаманили) по имени Татьяна и Алёна наблюдали процесс сожжения со стороны. По словам Марии Михайловны, это были настолько сильные шаманки, что они вызвали на совершенно безоблачном небе большую тучу, из которой хлынул дождь и залил костер.
Шаманизм, древние представления о мире у рассохинских эвенов причудливо сочетаются с христианством, пришедшим в район Колымы в 18-м и 19-м веках. Тогда же в эвенскую ярангу пришли и иконы. По данным исследователей, эвены были очень набожны, и в яранге иногда имелось до 16-и икон, к которым относились очень бережно и во время кочёвок перевозили отдельно от всего скарба. Вместе с тем в христианские праздники приносили жертву – резали важенку, обмазывали ее кровью шест, который с другими подношениями богу (шкурками белки, куски подшейной горловой шкуры оленя) устанавливали наклонно на восток. Молились на иконы и на солнце, молились земле и одаривали духов огня, местности. По словам Марии Михайловны Болдухиной, в христианстве её соплеменников покорила нравственная основа заповедей, одна из которых - не убий.
Для эвенов Вселенная состоит из трёх миров: нижнего, где обитают злые духи; среднего, где живут люди и животные, а также некоторые духи; верхнего, где на девяти ярусах поселились всесильные боги солнца, луны, покровители людей и всего живого. Связь между мирами осуществляется через отверстия, которые открывают две звезды – утренняя и вечерняя. Согласно представлениям эвенов, когда человек умирает, душа его уходит в верхний мир. Но если человек грешил в жизни, если был жесток, его душа бродила возле могилы и могла причинить вред живым.
Представители рассохинских эвенов считают, что они сохранили похоронный обряд. Умершего, по возможности, стараются полностью одеть в национальную одежду, положить с ним необходимые предметы. Для умершей женщины это её сумочка (авсы) со всеми швейными принадлежностями; для мужчины – патронташ, украшенный бисером, перчатки, трубка или сигареты. Могут быть и другие предметы, но все они так или иначе приводятся в негодность; сигареты, например, разламывают, в трубке делают отверстие. Сжигаются все вещи покойного, даже если они новые, хорошего качества. Двух-трёх оленей усопшего умертвляют и помещают на лабаз невдалеке от могилы. Сразу после похорон все родственники откочёвывают и впоследствии, как правило, могилу не посещают. На эвенской могиле кроме православного креста сооружают из нескольких жердей ритуальное жилище для души умершего.
День стал совсем коротким, и блеклое, размытое морозным туманом солнце, показавшись низко над горизонтом, спешит скорее скрыться за сопками, словно само озябло над заснеженной тайгой. Олени пёстрыми пятнами усеяли ближайший склон сопки, и где-то там вместе со всем стадом бродит необычный белый олень, добывая из-под снега свой олений корм – ягель.
Зима по эвенскому календарю начиналась в декабре и длилась до второй декады февраля. Это был самый длинный и самый спокойный период в годовом хозяйственном цикле эвенов. Место для стойбища выбирали в низменности, чтобы защититься от ветра и иметь доступ к источникам воды. Если не было хищников, оленей отпускали на свободный выпас, но за стадом всё равно присматривали, используя собак, которые лаем предупреждали о приближении волков. Защитой от хищников служили большие костры, которыми окружали пастбище. На волков (и на лису) не принято было охотиться. Эвены считали такую охоту нецелесообразной по той причине, что мясо этих животных не съедобно; шкуры их в хозяйстве тоже не использовались. Этих опасных кровожадных хищников стали отстреливать только в период деятельности оленеводческих совхозов.
В старину не принято было охотиться и на медведя, его убивали только в целях самозащиты. Больного, червивого медведя сжигали на костре. У рассохинских эвенов, по их словам, не принят был и медвежий праздник уркачак. Согласно бытующим среди эвенов представлениям, медведь состоял в родстве с человеком. Марией Михайловной Болдухиной рассказана легенда об этом родстве. Некогда в одном из стойбищ жила девушка по имени Кокан. Люди, живущие в стойбище, заметили, что она часто уходит в тайгу и её отсутствие с каждым разом становится всё продолжительнее. Однажды она ушла и не вернулась. Родственники искали её, но не нашли и решили, что девушка погибла. Когда выпал первый снег и мужчины стойбища отправились на охоту, они увидели на снегу два следа: медведя и человека. Они поняли, что это след Кокан и её мужа-медведя. С тех пор люди часто встречали такие следы, а некоторые видели издалека, как девушка бродит рядом со своим медведем. Через два года Кокан вернулась в стойбище, но люди не сразу узнали её. Она была в ветхой одежде и вся обросла шерстью. С нею вместе пришли её дети – два медвежонка.
С тех пор девушек предупреждали: «Не ходите в одиночку за ягодой, а то медведь заберёт».
Охота для эвенской семьи долгое время не имела большого значения. Всё необходимое давал олень. При возможности в конце осени охотились на дикого оленя, далее иногда охотились на боровую дичь, пушного зверя и снежного барана, позже – на лося. На водоплавающую птицу также не принято было охотиться ввиду малой ценности результатов такой охоты. Охота на куропаток и рябчиков была занятием женщин и детей. Совсем не охотились в период поздней весны и летом, так как это был период рождения и роста у детёнышей животных.
У эвенов не принято охотиться на стерха, лебедя, гагару, орла. По представлениям моих собеседников, охота на гагару, стерха, орла запрещалась по той причине, что в этих птиц могла вселяться душа шамана во время камлания. Охота на лебедя запрещалась ввиду красоты этой птицы.
Охота на лося и снежного барана в прежние времена носила коллективный характер; вся добыча распределялась между всеми семьями поровну независимо от участия в охоте. Её распределяла старшая в роду женщина, которой охотник отдавал в нимат (дарил) свою добычу.
Со временем (с 80-х), когда оленьи стада уменьшились, а мясо и мех приобрели для эвенского населения реальную ценность, охота на пушного зверя, лося и барана стала более активной.
Долгое время орудия охоты рассохинцев были примитивными: лук и стрелы, петли, силки, самострелы, копья. Огнестрельное оружие пришло к эвенам лишь во второй половине 19 века. Исследователи отмечают, что в первой половине 20-го столетия у рассохинских эвенов ружья имелись у единиц; они были образца 1915-1918 года системы «Маузер» и «Винчестер».
Интересно отношение эвенов к мамонтам, чьи кости, бивни, а иногда и остатки туш вытаивают из вечной мерзлоты. Эвенское население с древних времён испытывало трепет перед останками этого могучего животного. Эвены никогда не добывали мамонтовый бивень и не работали по нему. Само название животного было табуированным, считалось, что одно упоминание о нём способно принести несчастье.
Ослепительное сверканье снега до боли режет глаза. Дни всё длиннее, а ночи – короче, и на закате снега становятся цветными, окрашиваясь в пастельные розово-сиреневые тона. Иногда налетает пурга, но она быстро уходит, оставляя после себя низкие волны сугробов. Всё ещё спит, но в торжестве солнца уже угадывается близкая капель, и белый олень осторожно ступает на снежный наст.
По эвенскому календарю это предвесенье, или весна света, и пора эта длится до конца марта. В это время заканчивается охота на пушного зверя и начинается охота на лося по насту. В конце сезона оленье стадо откочёвывает на весенние пастбища, где должны будут телиться самки.
Рассохинские эвены не знали массовых эпизоотий в оленьих стадах, потому что пастьба велась очень тщательно; очень строго подходили к выбору пастбища на каждый сезон.
До установления советской власти на побережье Охотского моря в районе Гижиги и Гарманды, рассохинские эвены кочевали туда каждый год, совершая огромные переходы до тысячи километров. Из-за большого расстояния, которое нужно было преодолеть, стоянки редко превышали неделю. Настоящей бедой для оленеводов-кочевников были коряки, которые нападали на эвенов и отнимали у них стада. Редкое нападение коряков обходилось без кровопролития. Страдали от них и лесные юкагиры, кочующие в районе реки Коркодон. Само название реки образовано от слова «короконодэ», что в переводе с юкагирского обозначает «корякская птица». Коряки для рекогносцировки выбирали возвышенные места, а таёжные птицы – кедровки и сороки - своим криком предупреждали об их присутствии.
По рассказам Ивана Сергеевича Хабаровского, старые корякские стоянки на вершинах сопок и холмов ещё хорошо различимы и в наши дни. Как память о бывших военных столкновениях между эвенами-оленеводами и коряками, там ещё можно найти наконечники корякских стрел.
С установлением советской власти на побережье рассохинские эвены, не принявшие эту власть, откочевали в тайгу, где и оставались до конца 50-х годов в изоляции от остального мира. В это время хозяйство их было полностью натуральным; они сохранили свой язык и национальную культуру, которая впоследствии представила (и представляет) большой интерес для исследователей.
Насколько абсолютной была изоляция рассохинских эвенов? Некоторые данные говорят о том, что они поддерживали связь с миром и не остались в стороне от значимых для страны событий. Так в 1955 году в докладной председателя Гармандинского сельсовета Павла Савича Кудрина председателю Северо-Эвенского райсовета Борисову Панкратию Иовичу говорится: «При этом довожу до Вас в известность о результатах поездки к оленеводам-кочевникам нижеследующее: прибыли к местонахождению кочевников (левый приток реки Омолон, река Моноков) 15 декабря 1955 года, в этом районе находится одно стадо, общее количество людей 39 человек, которые имеют приблизительно до 5 тысяч голов.
Второе стадо находится в районе реки Молдачак, общее количество людей 34 человека и имеют оленей приблизительно до 8 тысяч голов.
Из вышеуказанных людей некоторые имеют удостоверение личности, выданное Средне-Колымским райсоветом от 1948 года; кроме того, во время выборов в феврале месяце 1955 года были избраны три человека депутатами кочевого совета; кроме того, некоторые мужчины имеют медали «За трудовую доблесть» в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. У вышеуказанных людей фамилии только две: 1.Болдухин 2.Комаровский (имеется в виду Хабаровский. Авт.).
Один человек из вышеуказанных послал свою добытую пушнину с тем, чтобы на будущий год на вырученные деньги привезли ему продукты.
В проведённой беседе с ними они заявили, что «…нам всё равно, куда б не поступить в колхоз: к Вам или якутам». По рассказам их в районе реки Мангазай находится одно стадо, 28 человек и имеют приблизительно до 6 тысяч голов оленей».
Когда для всей страны период коллективизации уже стал историей, оленеводов – единоличников, кочевавших в глубинных районах Коркодона, Кедона, Омолона с их значительными по количеству оленей стадами ещё только пытались вовлечь в социалистическое строительство. В стороне от реки Булун ( что означает «враг, неприятель») был построен посёлок Рассоха, который стал административным центром одноимённого сельсовета. В 40-е – 60-е годы на этом месте находилась перевалочная база Сеймчанского РайГРУ. Здесь жили геологи и горняки, они же были и первыми строителями. В 1958 году для оленеводов была открыта первая фактория, и уже в мае 1959 года в результате обмена кочевники получили палатки, ткани, хозяйственную утварь, чай, муку и другие товары.
Эвены – кочевники, вышедшие из тайги, выглядели своеобразно: мужчины длинные волосы расчёсывали на пробор и заплетали в одну косу, кожаным ремешком охватывали лоб и причёску, носили в одном ухе серьгу и кольца на пальцах. Всем женщинам положено было надевать платок. При этом замужние женщины складывали его треугольником и повязывали голову, а девушки повязывали платок, сложив его в виде шарфа.
На первой сессии избранного совета весной 1959 года было принято решение о переходе оленеводов - единоличников на кооперативное хозяйство на соединённых началах. Тогда же было принято решение об открытии начальной школы в посёлке Рассоха.
Несмотря на блага цивилизации, сами оленеводы-кочевники в посёлке не жили. В 1963 году там обосновалось отделение совхоза «Омолонский»; оно руководило работой эвенов-оленеводов. В 70-е годы с закрытием базы геологов посёлок окончательно опустел.
Согласно исследованиям У. Г. Поповой, в 1970 году рассохинские эвены насчитывали всего 78 человек, из них 28 мужчин, 22 женщины и 28 детей в возрасте до 16 лет (из них 18 девочек).
В 1971 году был создан совхоз «Рассохинский», который занимался уже не только оленеводством, но и коневодством. Из-за отдалённости его вскоре перенесли в село Балыгычан. Сами же оленеводы кочевали на территории Среднеканского района.
Старшее поколение современных рассохинцев вспоминает совхозные времена с большой теплотой. Тогда у таёжников- оленеводов появились трактора, облегчившие перекочёвку; на вертолётах и машинах доставлялись все необходимые грузы, цены на необходимые продукты и одежду были низкие, оленьи стада достигали 3000 тысяч голов. Беда пришла в перестроечные времена, когда резко уменьшилось стадо. Иван Сергеевич Хабаровский вспоминает: «Приходилось забивать много оленей - по 300-500 голов, при этом всё время возникали проблемы с вывозом мяса. Взамен получали несколько мешков муки. Стадо выращивается годами, каждого оленя надо беречь. Мы тогда всё потеряли, а восстановить очень трудно».
 Снега не тают, они незаметно испаряются под жадными лучами солнца, открывая взгляду блеклую прошлогоднюю траву, в которой всё настойчивее пробиваются первые зелёные стебельки. Ещё стоят подо льдом реки, вбирая тёмную воду окрестных лесов, настоянную на прошлогодних листьях, но они вот-вот разрешатся от своего ледяного бремени и с гулким шумом понесут вдоль берегов звонкие льдины. И белый олень внимает музыке природы.
Снега не тают, они незаметно испаряются под жадными лучами солнца, открывая взгляду блеклую прошлогоднюю траву, в которой всё настойчивее пробиваются первые зелёные стебельки. Ещё стоят подо льдом реки, вбирая тёмную воду окрестных лесов, настоянную на прошлогодних листьях, но они вот-вот разрешатся от своего ледяного бремени и с гулким шумом понесут вдоль берегов звонкие льдины. И белый олень внимает музыке природы.
По эвенскому календарю это поздняя весна, которая приходится на апрель и май. В кочевой жизни оленевода это самая ответственная пора - начинается отёл важенок. Маток, которые должны принести телят, отделяют от остального стада. Место для них на это время выбирают в наиболее сухих низменностях, окружённых сопками и защищённых от ветров, на южных, солнечных склонах. Отёл начинается в конце апреля и длится до конца мая; в один день может телиться по 30-40 и более важенок. В это время важно сберечь каждого телёнка от ночных морозов, проследить, насыщаются ли они молоком матери. Если важенка по какой-то причине не кормит новорождённого, её сваливают в снег, подносят телёнка и кормят, повторяя эту процедуру 4-5 раз в день.
Половозрелыми важенки становятся быстро: через полтора года после рождения они способны приносить потомство. Живут они намного дольше самцов- до двадцати лет, тогда как жизнь оленя-самца составляет в среднем 10-12 лет. Стадо состоит в основном из важенок в соотношении к самцам 20-30 к 1.
В таёжном хозяйстве семья, имеющая 20-40 оленей, считалась безоленной; те, кто имел 50-80 оленей, считались малооленными. Для питания семьи из восьмерых человек требовалось в год около 100 оленей, а на изготовления одежды для одного человека уходило 3 оленьих шкуры.
Чем меньше оленей было в хозяйстве, тем большее значение для эвенской семьи приобретала охота. Для сохранения оленьего поголовья весной охотились, при возможности, на дикого оленя. После вскрытия рек и осенью занимались рыболовством. Оно носило подсобный характер и разнообразило таёжное меню. В прежние годы во времена кочёвок на морское побережье занимались ловлей лососевых; с изменением летних маршрутов стали добывать хариуса в таёжных реках. Рыбу впрок не заготавливали и ловили столько, сколько требовалось для еды.
Отношение эвенов к природе, окружающей их, глубоко экологично. Они старались не брать у неё для себя ничего лишнего. Многие древние запреты на охоту на животных и птиц связаны именно с этими представлениями, хотя современная жизнь вносит свои коррективы.
Леса будто подёрнулись лёгкой зелёной дымкой, а голос кукушки всё настойчивее и уверенней. Вот уже дружно поднялись травы, и лёгкий ветерок слегка колышет изящные головки ветрениц. Где-то на глухих болотах и таёжных озёрах гнездятся пугливые птицы; потревоженные чьим-то вторжением красавцы-селезни стайкой проносятся над водой и прячутся среди высоких кочек. И белый оленёнок, рождённый в холодную майскую ночь, постигает первое в своей жизни лето.
По эвенскому календарю оно начинается в июне и обрывается в августе, закачивая год. В это время, избегая сырых заболоченных мест, чтобы не простудить телят, оленье стадо перегоняют на летние пастбища. Чтобы уберечь животных от гнуса, место для летнего выпаса выбирают на сопках, где всегда гуляет ветер и есть хороший обзор окрестностей. Для того чтобы обеспечить воду, на склонах или вершине роют колодцы глубиной до метра, выкладывают их камнями; чтобы защитить источник воды от собак и оленей, над колодцем устанавливают треножник и укрывают ветками стланика.
Лето всегда было порой встреч для оленеводов, кочующих большую часть года врозь. В прежние времена летом устраивались игры и праздники для молодёжи, соревнования. В соревнованиях принимали участие все жители стойбища. В беге наперегонки соревновались сначала мужчины, потом женщины, дети; пастухи соревновались в метании маута: кто точнее и дальше бросит.
 Прыгали в длину и скакали на ездовых оленях; ходили в гости друг к другу, принося с собой незатейливые гостинцы – чай, сухое мясо. Это было счастливое время общения после долгой холодной зимы; время, когда влюблённые находили друг друга. И были свои национальные танцы и песни, и дым костра, который на закате смешивался с запахом свежего мяса и запахом остывающей земли. Под говор птиц и хорканье оленей в белой ночи нарождался новый день, и возле яранги поднимал голову и настороженно прислушивался к наступающему дню белый олень.
Прыгали в длину и скакали на ездовых оленях; ходили в гости друг к другу, принося с собой незатейливые гостинцы – чай, сухое мясо. Это было счастливое время общения после долгой холодной зимы; время, когда влюблённые находили друг друга. И были свои национальные танцы и песни, и дым костра, который на закате смешивался с запахом свежего мяса и запахом остывающей земли. Под говор птиц и хорканье оленей в белой ночи нарождался новый день, и возле яранги поднимал голову и настороженно прислушивался к наступающему дню белый олень.
Светлана Ярышева